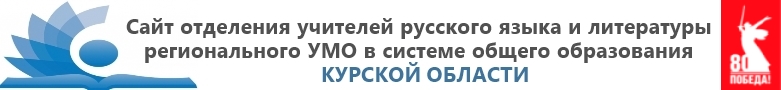Автор-составитель: Гребенникова Наталья Евгеньевна
Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец. И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?!
Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды. От нечего делать я учился малевать левой рукой, но все во мне было настороженно — и слух, и нервы. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали. Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер. Потом все стихло.
Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри. Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье,— повалили на улицу. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Концом косынки тётя Зина утирала мокрые морщинистые щеки: «Я тут хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую долю вытерпели».
(219 слов. По Е.Носову «Красное вино победы»)
Текст № 2
Автор-составитель: Забурдаева Татьяна Викторовна
У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы.
И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.
— Назовите ваше звание и фамилию, — перевел Свицкий.
— Я — русский солдат.Голос позвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова что-то спросил.
— Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию…
Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал и плакал, уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам.
Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке:
— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?
Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.
Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два санитара с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине.
Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги.
И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке.
А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.
Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости.
А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел. Возле машины.
Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ.
(493 слова. По Б. Васильеву "В списках не значился)
Текст № 3
Автор-составитель: Ржоткевич Елена Владимировна
Первая колонна
В 1941 году фашисты блокировали Ленинград. Попасть в город можно было лишь по Ладожскому озеру. В ноябре наступили морозы. Замёрзла, остановилась водяная дорога. Как воздух, как кислород нужна Ленинграду дорога. Замёрзнет Ладожское озеро, покроется крепким льдом Ладога (так сокращённо называют Ладожское озеро). Вот по льду и пройдёт дорога, но не каждый верил в неё. Неспокойна, капризна Ладога. Даже самые сильные морозы не могут полностью сковать озеро. И всё же выхода нет другого. Кругом фашисты. Только здесь, по Ладожскому озеру, и может пройти в Ленинград дорога.
Ожидают люди, когда лёд на Ладожском озере станет достаточно крепким. Приехали к Ладожскому озеру учёные-гидрологи (это те, кто изучает воду и лёд), прибыли строители и армейские командиры. Первыми решили пройти по неокрепшему льду. Прошли гидрологи — выдержал лёд. Прошли строители — выдержал лёд. Верхом на коне проехали – выдержал лёд. На легковой машине по льду проехали. Потрещал, поскрипел, посердился лёд, но пропустил машину. 22 ноября 1941 года по всё ещё полностью не окрепшему льду Ладожского озера пошла первая автомобильная колонна. 60 грузовых машин было в колонне. В кузове каждой из машин по три, по четыре мешка с мукой. Больше пока не брали. Некрепок лёд.
Вскоре ударили сильные морозы. Теперь уже каждый грузовик брал по 20, по 30 мешков с мукой. Перевозили по льду и другие тяжёлые грузы. Нелёгкой была дорога. Не всегда здесь удачи были. Ломался лёд под напором ветра. Тонули порой машины. Фашистские самолёты бомбили колонны с воздуха. И всё же ни днём, ни ночью, ни в метель, ни в самый лютый мороз не переставала работать ледовая дорога через Ладожское озеро. Стояли самые тяжёлые дни Ленинграда. Остановись дорога — смерть Ленинграду. Не остановилась дорога. «Дорогой жизни» ленинградцы её назвали.
(273 слова. По А. Алексееву)
Задания
- Определите части текста и микротему каждой из них. Составьте опорный план будущего изложения.
- Объясните слитное, раздельное написание НЕ со словами текста.
- Найдите предложения со вставными конструкциями. Надо ли сохранить вставные конструкции при написании сжатого изложения?
- Ответьте на вопрос: почему дорогу по льду Ладожского озеро ленинградцы назвали «дорогой жизни»?
- Напишите сжатое изложение приведенного текста, включив в него только самое главное из каждого абзаца. У вас должно получиться не менее 70 слов.
Текст № 4
Автор-составитель: Гриценко Ирина Ивановна
Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы, но с особой силой – 9 мая и 15 сентября.
Впрочем, не только в эти дни оно подчас всецело овладевает мною. Как-то вечером вскоре после войны в шумном, ярко освещенном “Гастрономе” я встретился с матерью Леньки Зайцева. Стоя в очереди, она задумчиво глядела в мою сторону, и не поздороваться с ней я просто не мог. Тогда она присмотрелась и, узнав меня, выронила от неожиданности сумку и вдруг разрыдалась.
Я стоял, не в силах двинуться или вымолвить хоть слово. Никто ничего не понимал; предположили, что у нее вытащили деньги, а она в ответ на расспросы лишь истерически выкрикивала: “Уйдите!!! Оставьте меня в покое!..” В тот вечер я ходил словно пришибленный. И хотя Ленька, как я слышал, погиб в первом же бою, возможно не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб – знакомым и незнакомым, – и их матерям, отцам, детям и вдовам… Я даже толком не могу себе объяснить почему, но с тех пор я стараюсь не попадаться этой женщине на глаза и, завидя её на улице – она живет в соседнем квартале, – обхожу стороной.
А 15 сентября – день рождения Петьки Юдина; каждый год в этот вечер его родители собирают уцелевших друзей его детства. Приходят взрослые сорокалетние люди, но пьют не вино, а чай с конфетами, песочным тортом и яблочным пирогом – с тем, что более всего любил Петька.
Все делается так, как было и до войны, когда в этой комнате шумел, смеялся и командовал лобастый жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом и даже не похороненный в сумятице панического отступления. Во главе стола ставится Петькин стул, его чашка с душистым чаем и тарелка, куда мать старательно накладывает орехи в сахаре, самый большой кусок торта с цукатом и горбушку яблочного пирога. Будто Петька может отведать хоть кусочек и закричать, как бывало, во все горло: “Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..”
И перед Петькиными стариками я чувствую себя в долгу; ощущение какой-то неловкости и виноватости, что вот я вернулся, а Петька погиб, весь вечер не оставляет меня. В задумчивости я не слышу, о чем говорят; я уже далеко-далеко… До боли клешнит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся…
(382 слова. В.О. Богомолов «Сердца моего боль»)
Текст № 5
Автор-составитель: Бабкина Наталья Федоровна
Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.
Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.
После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,- после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.
В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал, и мы, раненые,- со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.
(290 слов. По Е.И. Носову "Красное вино победы")
Текст № 6
Автор-составитель: Бабкина Наталья Федоровна
Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.
Около разбитой ограды сквера, над засыпанной землей воронкой от снаряда высился маленький холмик. В головах его был воткнут полукруг горелого железа. Прикрытая им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая.
Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить.
Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле, и, подняв огарок, зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех к ней, помог ей подняться.
Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.
Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой, — догонять свою роту.
А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.
(236 слов. По К.М. Симонову "Свеча")
Текст № 7
Автор-составитель: Шоренкова Людмила Васильевна
Кто видел Стены-руины Мамаева кургана, тот никогда не забудет эти суровые серые камни непокорённого города, эту живую железную стену мужества и отваги его защитников. Высоко-высоко над руинами левой стены стоит простой солдат в плащ-палатке, Солдат Сталинграда – один из многих-многих тысяч его безымянных героев, его защитников…
После битвы Мамаев курган называли железным: больше, чем земли, было на его склонах металла – разорванных танковых башен, разбитых орудий, обгоревших машин, искорёженных самолётов, прокопчённых гусеничных траков, осколков снарядов, авиабомб.
Его называли мёртвым курганом, потому что на его железной земле сгорело всё живое. Ни кустиком, ни травинкой не зазеленел Мамаев курган в первую мирную весну. Кто-то говорил тогда, что не год и не два будет чёрный курган и железным, и мёртвым, потому что раны земли зарастают долгие годы.
Но уже той весной в разрушенный и сожжённый город вернулись сталинградцы. Они жили в подвалах городских руин, в землянках, вырытых на крутых волжских откосах, в палатках, в полуразбитых блиндажах. На камнях родных пепелищ, над братскими могилами защитников города поклялись они возродить его, сделать его краше, чем он был.
Горы мёртвого железа на своих плечах вынесли сталинградцы с Мамаева кургана. И в первые же мирные годы высадили там великое множество деревьев. Потом степные ветры принесли на курган семена полыни, донника, ковылей. И поднялась над курганом первая лёгкая зелень, разлила над ним медовый и горький, вечный запах степи, мира, Родины.
(220 слов. По М.К. Агашиной)
Текст № 8
Автор-составитель: Черных Татьяна Игоревна
Когда я был маленьким, у нас была война, и всю войну мы жили в землянке. Землянка – это очень низкая хата, в которой всё сделано из земли: пол, стены и даже крыша. Поэтому на крыше росли всякие незабудки, ромашки и одуванчики. Оно бы ничего, даже красиво, но коза Капка легко запрыгивала на землянку, чтобы пастись. Копыта у козы острые, она расковыривала ими крышу, и, когда дождь, вода лилась нам на головы…
От беженцев мама слышала, что немцы ночью воевать не любят и, хотя до Новосёловки, которую немцы уже захватили, рукой подать, в наше село они войдут только завтра утром. Но всё равно мама запретила отлучаться со двора, а сама вместе с теткой Олянкой принялась рыть яму в землянке. Беженцы рассказывали: немцы забирают всё до последней нитки. Вот мама с теткой Олянкой и решили выкопать под кроватью яму и спрятать всё, что может приглянуться немцам.
За детьми должна была присматривать мамина младшая сестра Поля. Но ей с нами было неинтересно, и при первом же случае она убежала к подружкам.
Забравшись на землянку, мы какое то время наблюдали за самолетами, которые бомбили станцию, а когда самолеты улетели, отправились на огород проведать Капку и поискать оставленные в грядках морковки.
Морковок было мало, Капка на пустом огороде тоже не жировала, и мы решили отвести ее в колхозный сад. Пусть поест падалицы, иначе молока от нее не дождешься. На самом деле упавших с деревьев яблок и груш нам хотелось куда больше, чем козе.
Лида тащила Эдика, я с Наташкой тетки Олянки – корзину под падалицу, Инна – за веревку козу. Остальные эту козу подгоняли.
Миновали переулок, выбрались на шлях и, утопая по щиколотки в теплой пыли, направились к саду. Здесь мы и услышали гул моторов. Нам бы спрятаться в ближнем дворе или хотя бы сойти на обочину – мы же сбились посередине шляха и высматривали: что оно едет?
Там нас и застала колонна мотоциклистов. Все в касках, рубашках с закатанными рукавами и автоматами на груди. Не успели мотоциклисты поравняться с нами, как со двора деда Божка выскочил Рябчик и с лаем бросился навстречу колонне. Передний мотоцикл утишил ход, сидящий в коляске солдат наклонился к беснующейся собаке, захлопал в ладоши и залаял: «Ав-ав-ав-ав!» Мы с Наташкой засмеялись, удивляясь, до чего похоже у него получается, но старшая из нас всех Лида вдруг испуганно повернулась и закричала: «Немцы! Бежим!»
Здесь затарахтел автомат. Нет, стрелял не тот немец, который кривлялся. Стреляли из другого мотоцикла. Выстрелы из за треска моторов были не очень громкими, но по тому, как вздыбились фонтанчики пыли на шляху, как упал и засучил лапами Рябчик, мы поняли: нас могут убить.
И мы побежали.
(430 слов. С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война»)
Текст № 9
Автор-составитель: Скокова Ольга Васильевна
Под Москвой
К началу декабря враг подошел к Москве совсем близко. От поселка Красная Поляна до центра столицы по прямой было всего около тридцати километров. Ожесточенные сражения разыгрались в районе станции Крюково – на территории современного Зеленограда. Именно в этот момент советское командование поняло, что новый натиск врага на Москву, начавшийся в середине ноября, выдохся, и немцы напрягают последние силы. Пружина сжалась до отказа.
План контрнаступления, доложенный Сталину командующим Западным фронтом Георгием Жуковым в конце ноября 1941 года, состоял лишь из одной карты и пояснительной записки к ней. После чего в распоряжение командующих Калининским фронтом поступили свежие дивизии с востока страны, которые были хорошо вооружены и тепло одеты.
Советское контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В атаку перешли соединения Западного, Калининского и части сил Юго-Западного фронтов. При этом советские войска по-прежнему уступали немцам в количестве людей и боевой техники, лишь по самолетам у нас было серьезное превосходство.
Контрнаступление набирало силу, словно ураган. Немецкое командование было уверено, что основные советские силы давно разбиты, и не ожидало ответного удара. В результате враг дрогнул и побежал. Многие гитлеровские офицеры вспоминали в то время печальную судьбу армии Наполеона в 1812 году. А Красная Армия последовательно освободила Калинин, Клин, Истру, Волоколамск и другие подмосковные города. Уже 8 января 1942 года контрнаступление переросло в общее наступление – началась Ржевско-Вяземская операция.
В ходе наступления Красной Армии немцы были отброшены от столицы на 100-350 километров, от врага полностью очищены Московская, Тульская, Калининская, Рязанская области, частично освобождены Смоленская и Орловская.
(231 слово)